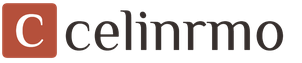Эмоционально-образное мышление. Развитие эмоционально-образного мышления на уроках специальности
ЛИТЕРАТУРА И ПРИМЕЧАНИЯ
Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М, 1984.
Баллы Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
ШлейхерА. Компендий сравнительной грамматики индоевропейских языков//Ис- тория языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 1. М., 1960.
Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977.
Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию. М., 1950.
Тезисы Пражского лингвистического кружка//История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М., 1960.
Слюсарева Н.А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. М., 1975.
Березин М.Ф., Головин Б.К Общее языкознание. М., 1979.
ПотебняА.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.
Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
Косериу Е. Синхрония, диахрония и история//Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике. М., 1990.
Сепир Э. Язык. М., 1934.
Ушаков"Д.Н. Краткое введение в науку о языке. М., 1929.
Бодуэн де Куртенэ И.А. Некоторые общие замечания о языковедении и язы- ке//Хрестоматия по истории русского языкознания. М., 1973.
Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960.
Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. М, 1962.
Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. М., 1990.
Иной диапазон количества фонем в языках приводит Роджер Т. Белл: «...Гавай ский язык имеет только пять гласных и шесть согласных, тогда как на другом полюсе находится абхазский, имеющий лишь две гласных и не менее 68 согласных фонем» (Социолингвистика. Цели, методы и проблемы. М., 1980).
Карцевский С. Об асимметричном дуализме лингвистического знака//История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М., 1965.
Дегтерева Т.А. К проблеме синонимики//Ученые зап. (1-й Московск. пед. ин-т иностранных языков). Т. 5. М., 1953.
Мюллер М. Лекции по науке о языке. СПб., 1865.
23. Чернышевский Н.Г. Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории. Поли. собр. соч. Т. X. М., 1951.
VI. Язык и мышление
§51. Человеческое мышление и его характер
Мышление человека - это внутримозговые психологические процессы, в которых в различных идеальных формах отражаются и познаются предметы и явления действительности, их свойства и качества, связи и отношения.
Мышление разделяется на чувственное и абстрактное. Непосредственная связь человека с действительностью осуществляется с помощью чувств, которыми владеет человек: зрения, осязания, слуха, обоняния, вкуса. Чувства человека - это каналы получения им разнообразной информации о действительности. Совокупность этих чувств, которые высоко у человека развиты, дает ему возможность разносторонне воспринимать и отражать действительность, различные ее явления, свойства, стороны. Результаты чувственного отражения действительности служат эмпирическим материалом для дальнейшей его обработки абстрактным мышлением, его формами.
Чувственное мышление также осуществляется в определенных формах, которые различаются качественно, участием разных чувств, охватом воспринимаемых в этих формах явлений действительности, т. е. степенью развития идеализации, обобщения. Выделяются следующие формы чувственного мышления человека: ощущение, восприятие, представление. Как известно, под ощущением понимается психический процесс отражения мозгом свойств предметов и явлений действительности в результате их воздействия на чувства человека. Восприятие представляет собой непосредственное отражение предмета или явления в целом, как совокупности определенных признаков, в отличие от ощущения, которое является отражением лишь отдельных свойств предмета или явления. Представление как психический процесс позволяет воссоздать в мышлении человека чувственно-наглядный образ предмета или явления как целое на основе предшествующих их восприятий.
Возникновение абстрактных форм мышления обычно связывают с языком. Считается, что их образование происходило одновременно с образованием языка. Однако такой взгляд на генезис
абстрактного мышления и его взаимодействие с чувственным, по нашему мнению, не лишен механистичности. Руководствуясь правилом: ничто в природе и обществе не возникает из ничего, новое образуется путем преобразования старого, мы должны допустить, что истоки абстрактных форм мышления восходят к доязыковому человеческому мышлению, а именно: к высшим формам чувственного мышления - представлению и чувственно-наглядному образу. Область человеческого мышления, говорил Потебня, шире области языка, и прежде всего в генетическом отношении. Зачатки формирования абстрактного мышления отмечаются до образования собственно языка. Они выражались в виде обобщения обозначаемых предметов определенного порядка, осуществляемого в таких формах мышления, как представление и чувственный образ, и соотнесенности с помощью невербальных знаков (жестов, мимики, «выразительных движений», действий и пр.) этого обобщения или отдельных предметов с действительностью. Это не было своего рода salto mortale человеческого мышления. Общее объективно и действительно существует в предметах и явлениях, а, следовательно, и в нашем восприятии их.
Таким образом, и представлению, и чувственному образу свойственны идеализация воспринимаемых предметов и их обобщение, а также их соотнесенность с действительностью. Надо полагать, именно эти качества и свойства чувственного образа и представления послужили истоком в движении мысли к абстрактным формам - понятию и суждению и коррелятивным им единицам языка - слову и предложению. Однако формирование собственно понятия и суждения в строгом смысле слова, их постепенная «кристаллизация» в мыслительном потоке и вычленение из него обязаны языку. В языке эти формы находят типичное свое выражение в соответствующих языковых единицах - слове и предложении. Язык как знаковая система оказался наиболее соответствующим природе логического мышления и его формам. С возникновения языка качественно преобразуется предшествующее невербальное человеческое мышление.
Под формой абстрактного мышления понимается определенный способ идеального отражения действительности с помощью языка и тем самым образования содержания, свойственного данной форме. Последняя обладает структурой, свидетельствующей о ее самостоятельности и определенности и тем самым отличающей ее от других мыслительных форм.
Чувственные формы отражения действительности являются исходным материалом для языка, для языковой формы, с помощью которой эти исходные данные обрабатываются. О чувственном образе Потебня писал: «...Чувственный образ есть нерасчлененный комплекс почти одновременно данных признаков: я смотрю на траву, и все, что я в этом случае знаю о ней составляет просто один момент моего душевного состояния» (1, с. 119). Препарированный с помощью языка чувствен-
ный материал преобразуется в принципиально иные мыслительные формы - абстрактные, логические, в которых цельные, чувственно представляемые образы расчленяются на отдельные свои признаки, стороны. Если чувственный образ предмета или явления представляется в единстве и одновременности своих сторон и признаков, то абстрактные формы отвлекают и делают предметом познания отдельные его стороны и признаки. Совокупность таких абстрагированных и познанных в опыте сообщества признаков как единство образует понятие об отражаемом предмете или явлении; понятие предполагает единство как мыслительной формы, так и стоящего за понятием соответствующего предмета. Из сказанного явствует, что абстрактные формы отражения и познания действительности не отрываются и не обосабливаются от чувственных форм генетически и функционально.
С помощью языка осуществляется движение мысли от чувственного восприятия и его комплексов к логическому, понятийному мышлению, к духовной деятельности человека в полном смысле этого слова. «Только посредством объективирования мысли в слове,- подчеркивал Потебня,- может из низших форм мысли образоваться понятие» (2, с. 57). В мысли, в логическом, абстрактном мышлении человек возвращается к тому, что у него было в чувственном мышлении, но это отражение на высшем, сущностном уровне. По сравнению с чувственными формами мышления абстрактные формы отличаются большей активностью, поскольку и образование мысли и ее выражение с помощью языка - это всегда творческий акт. Об этом движении от низших форм мышления к высшим Потебня писал: «При помощи слова человек снова узнает то, что уже было в его сознании. Он одновременно и творит новый мир из хаоса впечатлений, и увеличивает свои силы для расширения пределов этого мира» (2, с. 302).
Как образование языка, языковых знаков шло стихийно и бессознательно, так одновременно в единстве с этим процессом, непроизвольно, стихийно создавались формы мысли, связанные с этими знаками. Человеческое мышление, отражая действительность, целесообразную предметную и умственную деятельность людей, вырабатывало такие формы, которые были способны выражать новое содержание и, благодаря знакам, делать его достоянием всего языкового сообщества. В силу объективной необходимости эти формы предполагали использование предшествующего усвоенного знания, которое служило средством представления, понимания и познания новых предметов и явлений, т. е., приобретения нового знания. Образование и развитие этих форм обусловлено природой самого человека, его биологическими предпосылками и социальными условиями, а также формированием языка как естественной знаковой системы (см. гл. X).
Выше говорилось, что представление, чувственный образ как формы мышления не лишены идеализации и обобщения воспринимаемых
предметов и явлений, а, следовательно, их анализа и синтеза. Языковой знак сделал возможным отчуждать из мыслительного потока элементы анализа и синтеза в отдельных знаках и оперировать этими знаками и их значениями как самостоятельными данностями. Тем самым благодаря языковым знакам анализ и синтез обрели самостоятельность как логические процессы, в результате чего стало возможным образование понятия - сущностной мыслительной категории, что сыграло основополагающую роль в развитии мышления человека, в его познании Действительности. Вербальные формы мышления дали возможность человеку оперировать в «снятом» виде предметами и явлениями, их классами, качествами, отношениями и пр., тем самым познавать их с разных сторон, проникать в их сущность.
Человек непроизвольно и стихийно был побуждаем в своей деятельности отражать мир и себя доступными ему, возможными средствами, какие позволяли ему использовать его собственная природа, общественные и естественные условия, в каких он обитал. В этих сложившихся условиях, в практической, предметной и речевой деятельности человека его мысль и язык «саморазвивались» по объективным, независимым от индивида законам. Формами этого мыслительного движения были образ, понятие, суждение, предполагающие познание нового посредством участия - на различных мыслительных основаниях - уже познанного.
Абстрагированное в слове обобщение (общее) отражено в знаке и тем самым отвлечено от своего единства в действительности с отдельным. В слове общее как его внутренняя сторона, значение, может применяться самостоятельно вне указанного единства с отдельным. Но абстрагирование не отрывает слова от действительности, от способности слова отражать и обозначать в речи отдельные предметы и явления. Напротив, именно потому, что за словом, как за языковым знаком, стоит отвлечение (мысль о классе предметов или явлений), слово может обозначать разделенные во времени и пространстве отдельные предметы этого класса, разные их совокупности, как и весь класс предметов или явлений. Общее как материал отвлечения существует в действительности и в чувственных формах ее отражения. Слово само по себе не могло бы выражать общее.
Надо заметить, что отражение и закрепление общего в языке и речевой деятельности (последняя включает язык как важнейший свой ингредиент) не есть какое-то исключение для человеческой деятельности вообще. Владение каким-либо видом деятельности - это владение им в отвлечении от его конкретного, предметного воплощения. Владение человеком той или другой деятельностью включает обобщение, отвлечение, навык. Такое владение, как и практическое знание языка,- это тоже «память опыта», позволяющая исполнять эту деятельность в разных условиях, разделенных во времени и пространстве, индивидуально и предметно (ср. изготовление изделий, орудий и пр.
в разных областях человеческой деятельности). Сам предметно воплощенный продукт той или иной деятельности есть одновременно знаковое закрепление этой деятельности, свидетельствующей об уровне труда, производства, а, следовательно, мышления, сознания. И как в случае с языком окружающая человека природа много «подсказала» ему в его деятельности. Вот что пишет Потебня по этому поводу: «Здесь, как и в других случаях, сознанию того, что уже существует, мы можем приписать могущество пересоздавать это существующее, но не создавать его, не творить из ничего. Человек не изобрел бы движения, если б оно не было без его ведома дано ему природой, не построил бы жилья, если б не нашел его готовым под сенью дерева или в пещере, не сложил бы песни, поэмы, если б каждое слово не было... поэтическим произведением; точно так слово не дало бы общности, если б ее не было до слова. Тем не менее есть огромное расстояние между непроизвольным движением и балетом, лесом и колоннадою храма, словом и эпопеею, равно как между общностью образа до слова и отвлеченностью мысли, достигаемою посредством языка» (2, с. 154).
Зачатки абстрактного мышления, по нашему мнению, связаны с использованием тех или других внешних субстратов мысли и мыслительных процессов в качестве знаков (ср. указанные выше жест, мимика, «выразительные движения», действия и др.). Например, жест имел и имеет символическое значение. С жестом было связано в первобытном обществе определенное представление об обозначаемом, жест мог выступать как иконический знак обозначаемого объекта. Знаковая ситуация (семиозис) при использовании жеста такая же, как и при употреблении слова. За жестом также стоит обобщение, поскольку жест применялся не окказионально, а был постоянным, воспроизводимым знаком, обозначая те или другие предметы, действия, призывы и другого определенного порядка, разделенные во времени и пространстве.
В жесте, как и в других знаковых воплощениях мысли, берет начало и развитие такая форма мысли, как образ, предшествовавшая понятию, но уже включавшая обобщение, хотя и возникающее на других основаниях (см. ниже). Образ также представляет собой мысль о предметах, явлениях, действиях и пр. определенного порядка. Поэтому словесное обозначение формирующихся абстракций, выступавшее одновременно и, надо полагать, параллельно с другими видами знаков, было подготовлено всем комплексом возможных знаковых воплощений мысли, материальных ее показателей (см. гл. X).
Однако абстракция, связанная со словом, формирующаяся с помощью слова,- это решительное преобразование предшествующей мысли, потому что только с участием слова образуются такие формы человеческой мысли сущностного характера, как понятие, суждение, умозаключение. К этим традиционно выделяемым логиче-
ским формам мышления следует прибавить форму, с помощью которой в человеческом мышлении осуществляется объединение чувственного и абстрактного мышления, их теснейшее взаимодействие и взаимопроникновение, а именно: образ. В образе осуществляется синтез высших форм чувственного (восприятие, представление) и абстрактного (понятие) мышления. Образ - необходимая Исходная основа формирования понятия.
Логические формы мышления, и прежде всего понятие, нередко сравнивают и сопоставляют с грамматическими. Общим свойством понятия и грамматической формы является то, что они классифика-ционны по своей природе. Как идеальные явления понятие и грамматическое значение не внеположны друг другу. Однако если понятие как форма человеческого мышления отличается всеобщностью (это, разумеется, не означает, что содержание и объем понятий также всеобщи, а не национальны), то грамматические формы индивидуальны, характерны для системы того или другого язьцса. Более того, существуют такие языки, в которых нет грамматических форм как таковых (ср. изолирующие, полисинтетические языки). Классифика-ционность грамматической формы имеет синсемантинеский (сопроводительный) характер, а не аутосемантический (объектный), каким обычно обладает понятие. Отвлеченная классификационность грамматической формы не исключает в известных условиях пересечения с классификационностью понятия, выступающего в виде признака в явно выраженной или имплицитной форме (см. о признаке в гл. VIII). Кроме того, если в одном языке грамматическое значение выражается с помощью грамматической формы, то в другом оно может быть выражено лексически.
Мышление осуществляется субъективно, однако, будучи направленным на отражение и познание внешнего и внутреннего мира человека, оно способно наполняться объективным содержанием. Формирование объективного содержания нашего мышления обязано, благодаря языковому общению, всему языковому сообществу; субъект осваивает в том или другом объеме это общее содержание, убеждаясь на своем опыте в его существовании. Субъективное владение формами мышления вносит индивидуальность в сам характер протекания этих процессов, обнаруживает различные возможности в достижении результатов мышления, не исключает произвольности в использовании результатов мыслительных процессов и др. Будучи диалектическим по своей форме существования и содержанию, мышление, таким образом, как и язык, представляет собой антиномию субъективного и объективного и одновременно их единство.
Между языком и мышлением - и в генезисе и в его функционировании - отмечается постоянное взаимовлияние. Само возникновение языка предполагает высокую степень развития мышления и было обусловлено этим процессом развития. В свою очередь, образование
языка явилось мощным толчком в развитии мышления и связанных с ним психологических и логических процессов. Только благодаря языку стало возможным образование, дифференциация и развитие абстрактных форм мышления, а также дифференциация и осознанность чувственных форм мышления и других психологических процессов: памяти, воли, чувств, таких явлений, как апперцепция, ассимиляция, конденсация, или сгущение мысли, ее развертывание и др.
Поскольку одна и та же форма мышления может выражать различное содержание, то в интересах познания свойств формы она в определенных логических операциях может быть отделена от конкретного содержания и обозначена символически. Суждения, например, Иванов есть студент, Золото есть драгоценный металл, Волга есть самая большая река в Европе и т. п., могут быть обозначены, как £ есть Р, где S - субъект, Р - предикат, есть - связка.
К дословесным формам мышления относится общее у человека и высших животных образное и практическое мышление. Человек может без слов сознавать мотивы, побуждающие его говорить, ситуативные условия общения и лишь потом обратиться к языку для материализации сообщения. С помощью жестов, мимики и других несловесных средств часто передаются побуждения, вопрос, утверждение, отрицание. Вербальная часть высказывания накладывается на предваряющую ее
невербальную часть. Структура довербального мышления может быть только предварительной, начальной, мимолетной.
Формами мышления являются чувственное и абстрактное мышление.
а) Чувственное мышление.
Непосредственная связь человека с действительностью осуществляется с помощью чувств: зрения, осязания, слуха, обоняния, вкуса. Чувства человека - это каналы получения им разнообразной информации о действительности. Различаются
следующие формы чувственного мышления: ощущение, восприятие, представление.
Ощущение - психический процесс отражения мозгом свойств предметов и явлений в результате их воздействия на чувства человека. Ощущение является отражением лишь отдельных свойств предмета.
Восприятие - непосредственное отражение предмета или явления в целом, как совокупности определенных признаков.
Представление - психический процесс, позволяющий воссоздать в мышлении человека чувственно-наглядный образ предмета как целого на основе предшествующих восприятий.
Обычно подчеркивается, что со словом связано абстрактное мышление, поскольку за любым словом стоит обобщение. Однако язык не оторван от чувственных форм мышления.
1. Чувственные формы мышления отражаются в денотативных значениях
номинативных единиц. А.А.Потебня писал: «Слово может одинаково выражать
и чувственный образ и понятие», то есть конкретное и отвлеченное значение.
Одной из основных функций слова как языкового знака является перцептивная
функция, когда в общении слово выступает заместителем предмета или явления
действительности. Абстракция, которая закреплена за словом, остается при
таком применении «за кадром». Она известна всем говорящим на данном языке
и редко бывает предметом сообщения. Конкретную предметную отнесенность
имеет не только слово, но и другие номинативные единицы языка:
словосочетания, фразеологизмы, предложения.
Абстракция не противоречит чувственным формам мышления, так как вырастает из них, основывается на них. Общее существует в отдельных предметах и явлениях, в чувственных формах их восприятия, а затем переходит в словесные значения.
2. Чувственные формы мышления отражаются в содержании и во внутренней
форме слова
. Слово не математический знак, и его значение состоит не только
из классификационных, общих признаков. Значение слова формируется
исторически и отражает субъективный подход в познании обозначаемого
явления. Например, значение слова «холод» у русских существенно отличается по
своему содержанию от значения этого слова у бразильцев. Характерный признак, который как образ кладется в основу названия и становится внутренней формой нового обозначения, также отражает чувственное восприятие предмета. Это хорошо видно на примере слов с ясной внутренней формой: рыжик, наседка, подорожник, подосиновик, подснежник, оборванец, белок, желток
. Говорящие отчетливо сознают разницу между внутренней формой слова и его значением.
3. Чувственные формы мышления выражаются индивидуальными смыслами слов . Например, в художественных произведениях слова участвуют в создании субъективного авторского образа действительности. В таких случаях значения слов прирастают различными смыслами и выполняют изобразительную функцию. У Пастернака: грохочущая слякоть ; у Есенина: как с белых яблонь дым.
Уже одной своей звуковой стороной, внешней формой, слово вызывает в сознании человека наглядно-чувственный образ обозначаемого предмета.
Следовательно, и в своем формировании, и в дальнейшем применении в качестве общеупотребительного знака слово не порывает с чувственными формами мышления.
б) Абстрактное мышление .
Мысль достигает завершения только в понятии. Субъективная, колеблющаяся, интуитивная мыслительная структура может перейти в четкую, логическую структуру только посредством знаков. О роли слова в мыслительной деятельности ярко и выразительно написал выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский: «Слово поднимает рассудочную работу на высшую ступень. Каждое слово для нас есть то же, что номер книги в библиотеке; под этим номером скрывается целое творение, стоившее нам продолжительного труда в свое время... Слова, значение которых мы понимаем, делают нас обладателями громадной библиотеки нашей памяти, это произвольные значки, которые мы положили на бесчисленные творения, нами же выработанные».
Конкретные связи языка и мышления координируются правым и левым полушариями головного мозга. Нейролингвистические механизмы мышления и языка изучаются специальной наукой - нейролингвистикой, сформировавшейся в нашей стране во второй половине XX века. Ее создателем является Александр Романович Лурия.
Головной мозг состоит из 10 миллиардов нервных клеток - нейронов и их соединений - аксонов. Сочетание нейронов создает физиологическую основу образов, возникающих во всех участках коры в результате деятельности мозга. Возбуждение одного сочетания нейронов вызывает и другие сочетания нейронов, что приводит к образованию понятий. Мысль образуется сочетанием различных по величине, форме, плотности расположения нейронов.
С правым полушарием коры головного мозга связано чувственно-образное, конкретное мышление, а с левым - абстрактное мышление.
Л.С. Выготский предлагал схематически обозначить связь языка с мышлением в виде двух пересекающихся кругов. Площадь пересечения обоих кругов показывает неразрывную связь данных явлений. Не входящие в зону пересечения площади обоих кругов подчеркивают специфичность языка и мышления. Эти специфические сферы исследуются, с одной стороны, в психологии, логике, философии, а с другой - в языкознании. Площадь пересечения языка и мышления неодинакова у различных людей и зависит от специфики их интеллектуальной деятельности. У писателей, журналистов, филологов площадь пересечения языка и мышления больше, чем у композиторов, шахматистов, математиков, конструкторов, оперирующих в своей творческой деятельности неязыковыми знаками.
Связь между абстрактными формами мышления и языком достаточно хорошо исследована. Абстрактное мышление имеет две формы: понятие и суждение. Понятие определяется как совокупность познанных на практике отличительных, существенных признаков, по которым выделяются и отождествляются в мышлении предметы, их признаки, действия и отношения.
 Лев Семёнович
Выготский
(1896-1934)
Лев Семёнович
Выготский
(1896-1934)
|
Понятие - это классификационная по своей природе мысль. С ее помощью осуществляется анализ и синтез отражаемых предметов и явлений, их дифференциация и интеграция.
Понятия выражаются в языке словами и разной формы сочетаниями слов : грузовой автомобиль - грузовик, маховое колесо - маховик, столовая комната - столовая, сделать ошибку - ошибиться. Понятие может быть обозначено аббревиатурой и соответствующим номинативным сочетанием слов: вуз - высшее учебное заведение, ТЮЗ - театр юного зрителя, колхоз - коллективное хозяйство. В искусственных языках понятие может быть обозначено любым символом, заменяющим словесное обозначение понятия (азбука Морзе).
Большинство лингвистов придерживается мнения, что не все разряды слов выражают понятия. Например, служебные части речи не обозначают понятий ввиду отвлеченности и формальности своих значений. Не обозначают понятий личные имена, так как вне отношения к конкретному лицу они не имеют конкретного содержания. В таком случае остается нерешенным вопрос о том, какая форма мысли связана с лексическими значениями этих слов.
Логики считают, что незнаменательные части речи выражают понятия. Эта точка зрения более соответствует действительности. Служебные части речи формировались на базе знаменательных частей речи. По мере развития отвлеченности и «выветривания» вещественного содержания знак такого понятия постепенно терял строение, лишался внутренней формы, приобретал тенденцию к сокращению. Но этот процесс не может изменить заключенную в слове форму мысли. Незнаменательные части речи также обозначают понятия. Только признаки понятий, обозначенных такими словами, отвлеченны, формальны и малоинформативны. Но отвлеченность и малоинформативность не исключают понятийности.
У математиков и логиков нет сомнений, что конъюнкция, дизъюнкция, импликация , выражающие определенные отношения между понятиями и суждениями, суть полновесные математические понятия. В языке прообразом этих отношений являются соединительные, противительные, условные союзы, не потерявшие с математическими терминами семантического и функционального родства.
Значение личного имени также классификационно; оно содержит целый ряд дифференциальных признаков, обозначающих: а) человека; б) его пол; в) класс определенных лиц, обозначенных данным именем; г) принадлежность к определенному национальному языку; д) совокупность грамматических показателей. Антропоним, обозначая конкретное лицо, содержит смысл, который образуется у определенного круга людей, знающих данное лицо. Таким образом, у личных имен, как и у нарицательных, выделяются разные уровни семантики - абстрактный и конкретный. Игнорирование лингвистами абстрактного, классификационного уровня семантики у личных имен говорит о том, что они смешивают понятийность с конкретной информативностью.
Человеческая мысль может достигать разных степеней отвлечения и обобщения, однако форма мысли при этом не меняется. Лексические, грамматические, словообразовательные значения выступают классификациями разной степени отвлечения. В них присутствует одна и та же форма мысли, только в разной степени разработанности и развития и в разных своих функциях.
Суждение определяется как мысль, в которой что-либо утверждается или отрицается. Языковой формой выражения суждения является повествовательное предложение . Суждение двучленно, оно включает субъект (предмет речи) и предикат, то есть то, что говорится о предмете речи. Субъект совпадает с группой подлежащего, предикат - с группой сказуемого.
С предикатом связано то новое, что приписывается предмету речи, но новое не всегда выражается сказуемым. Коммуникативно и логически новым в суждении может быть любой член предложения. Универсальным средством выделения логического предиката в языке является логическое ударение.
Кроме этого, логический предикат может выражаться определительными и указательными местоимения, частицами, вводными словами, порядком слов. В некоторых языках для выделения логического предиката используются особые морфемы и служебные слова. Субъект суждения тоже может выражаться морфемой, например в русском языке - окончанием спрягаемого глагола в определенно-личных предложениях: Иду, Идешь .
В языкознании считается, что не всякое предложение выражает суждение. Вопросительные, побудительные, условные предложения, с этой точки зрения, не выражают суждение. При этом не решен вопрос, какая форма мысли
выражается в этих предложениях.
Ряд ученых считает, что и в таких предложениях следует видеть особую
разновидность мысли, имеющей познавательное значение и заключающей в себе суждение. Эти предложения содержат суждение в неявной форме, имплицитно. Например, вопросительные предложения: Кто принес эти книги? Кто ответит на этот вопрос? предполагают утвердительный или отрицательный ответ. В.В. Виноградов писал: «Ведь и в вопросе что-то высказывается, сообщается и понимается. Вопрос тоже может быть истинным или ложным. Искомый предикат в вопросе не раскрыт. Но и в вопросе содержатся свернутые (имплицитные) или неопределенные предикаты, обеспечивающие самую возможность указать на искомый предикат».
изм. от 11.03.2016 г (чуть дополнено)
Одной из граней образного мышления является чувственное знание или говоря языком парапсихологов эмпатийное восприятие. Критерием возврата человека к образному мышлению является умение мыслить методом озарения. Это метод мысленного погружения в проблему, при котором ответ приходит мгновенно, как озарение. Он именно приходит, выстреливает из подсознания. Возникает внутреннее состояние радости – вот оно, теперь все понятно. Ответ приходит сам. Например, тот же Менделеев именно таким способом и открыл таблицу элементов. А люди, которые могут мгновенно перемножить любые числа? В таких случаях и работает образное мышление, которое обычно сопровождается чувством эмоционального накала. Человек внутренне проводит какую-то работу, он погружается в проблему, и затем выстреливает ответ. Еще его называют методом погружения.
Получается, что человек, который раскрывает в себе образное мышление, начинает по-другому решать поставленные перед ним задачи. Механизмы решения задач также могут эволюционировать или деградировать в зависимости от роста человека или его упадка.
Люди, которые постарше, наверняка помнят, что в школе они не заучивали таблицу сложения. Они понимали принцип, как можно их сложить. Сейчас в школах учат не только таблицы умножения, но и таблицы сложения. Они просто зазубривают готовые ответы. Безусловно это показатель деградации.
И еще, лингвисты хорошо знают, что английский язык абсолютно пустой. Он не вызывает в сознании человека образов. Его иногда называют языком искусственным или знаковым. Всего-навсего отражение материального в неведомо откуда взявшемся звуке, где звук далёк от того, что он отражает. Возьмём звуковое значение принятия пищи, по-русски: еда, пища, харч, хавчик, жор, есть и другие звуковые обозначения этого процесса. А в английском? Одно слово “фуд”. Или: я тебя люблю, тебя люблю я, да люблю я тебя! А в английском: I love you. Всё, больше ничего и никак иначе! Только знак, никакой образно-временной наполненности. Поэтому честные учёные из Израиля прямо заявили, что русский язык развивает не только левое полушарие головного мозга, но и правое. Потому что он создаёт образы, а другие европейские языки на это не способны. Самый же отсталый из европейских языков – это английский. Единственное, что он способен развить, так это память и левое полушарие головного мозга. Вот и ответ, почему самый примитивный из европейских языков так стремительно навязывается всему миру. Но это так, к слову о лингвистике.
Поэтому разумно предположить, что у наших пращуров было больше механизмов решения поставленных задач. Допустим человек искал ответ на поставленный вопрос. Он погружался в этот вопрос. По сути, он соединял два образа: образ себя на данный момент, и образ ситуации, в которой он оказался. А дальше синтезируя два эти образа на чувственном уровне, ему методом озарения приходил ответ наиболее оптимального решения. Или человек занимался выбором правильного действия из веера возможных решений. Он брал образ себя, образ ситуации и дальше образ возможного решения. Синтезировав три этих образа, он получал ответ того, к чему это приведет. То есть что будет, если человек сделает такой выбор. И сейчас многие люди так делают, особенно те, у кого не так сильно развито левое полушарие (структурно-логическое мышление, абстрактное) по сравнению с правым полушарием (чувственно-эмоциональное, интуитивное, связь с информационным полем Вселенной). Происходит считывание образом моделирования событий, образом выбора вектора дальнейшего движения.
Стоит отметить, что левополушарная и правополушарная работы не противопоставлены друг другу вообще никак. Распространенное суждение гласит, что левое полушарие отвечает за структурно-логическое мышление, за логико-математический анализ, а правое полушарие за образно-чувственное. Современная система образования утверждает, что направлена на то, чтобы гипертрофировать левое полушарие и при этом как-то ограничить правое полушарие. Но мы видим, что для современных людей уже не доступны элементарные логические конструкции.
Образная работа включается тогда, когда у человека в гармонии оба полушария . Мы опять видим троичность. И обосновать это достаточно легко. Как включается метод погружения? Мы начинаем думать, и искать логические взаимосвязи с изучаемым объектом. У нас включается левое полушарие. Но дальше, в процессе этой работы, идет определенная сонастройка с образом задачи. И благодаря этой сонастройке у нас активизируется правое полушарие. Мы начинаем чувствовать этот образ на уровне эмпатии сверхчувственного восприятия. Логика по-прежнему работает, но одновременно мы уже ищем ответ, чувствуя задачу. Вот тогда и выстреливает мыслеобраз ответа.
Еще одним способом образного мышления, но более низкого порядка, является разговорная речь . Вы никогда не задумывались над тем, как в вашей голове возникают слова? По большому счету они возникают спонтанно. Мы формируем в голове образ той мысли, которую хотим донести, и она изливается в виде предложения. Если бы мы задумывались над каждым словом, мы не смогли бы так быстро говорить. Как только мы начинаем подбирать слова, речь становится прерывистой. На этой основе и появилась наука, изучающая психологию человека по его речи. Или, к примеру, в голове возникает образ зебры, и мы сразу же понимаем, что это полосатое парнокопытное. Если слово неизвестно – не возникает ничего. Можно сказать, что это память, но ни один современный компьютер не сможет так быстро подобрать то описание, которое как озарение возникает в нашей голове. Да и где там может все это уместиться? Мы не ищем ответ, мы его сразу получаем. Подумайте над этим.
Понять, какое полушарие у вас развито больше поможет простое упражнение. Сложите, не задумываясь, пальцы рук в замок. В зависимости от того, палец какой руки окажется сверху, то противоположное полушарие у вас и более развито. Если сверху палец левой руки, то более развито правое полушарие. Теперь сложите пальцы рук так, чтобы сверху оказался палец другой руки. Чем большее неудобство для вас доставляет эта процедура, тем больше разница в развитии полушарий головного мозга. В таком случае вам необходимо отстающее полушарие подтягивать к более развитому, а не наоборот.
Важно гармоничное развитие обоих полушарий. Именно поэтому в старину люди умели писать двумя руками, а воины умели сражаться сразу двумя мечами. Если ваш ребенок левша, не спешите переучивать его в правшу. Гораздо важнее просто научить его писать или держать молоток правой рукой также как и левой. Тогда вы получите гармоничную личность, а не личность с подавленной интуицией.
Одной из задач, которую умели делать древние жрецы, было умение одновременно писать двумя руками в двух тетрадках тексты на две темы. Именно это нашло свое отражение в легендах о Цезаре в том, что он умел одновременно решать несколько задач. Отсюда же и ведическое понятие дважды рожденных. Да и мужчина и женщина, по сути, являются половинками чего-то единого, хотя и находящегося на другом плане мироздания. Все по образу и подобию, как вверху, так и внизу.
Поэтому образное мышление – это мышление методом озарения. Обычно погружение происходит через левое полушарие. Мы осмысляем, думаем, пытаемся логически выявить закономерности. Дальше через концентрацию происходит активизация правого полушария, человек начинает чувствовать задачу. И когда они выравниваются, происходит озарение, выстреливается готовый мыслеобраз ответа, который мы просто считываем. Это можно сравнить с буквицей Ижеи, с образом потока. Человек входит как бы в поток. Между полушариями появляется поток, который и считывается умом. Вхождение в поток является следствием и приятным побочным эффектом выравнивания пропорционального соотношения активации полушарий головного мозга. Теперь понятно, почему сознание сравнивается с потоком, а жизнь с движением?
Когда мы работаем со слогами в буквице , что происходит? Мы берем слог, есть одна буквица со своим образом, есть и другая со своим образом. Дальше начинается логическая работа погружения в синтез этих двух образов, и их чувственное осознание. Мы берем две частности и выдаем синтезированный мыслеобраз общего. Говоря другими словами, мы делаем шаг левым полушарием, потом шаг правым, выравниваемся и выстреливает поток общего мыслеобраза. По сути, мы занимаемся свитием, в противовес развитию, синтез в противовес анализу. Отсюда и понятие vita – жизнь. А теперь посмотрите на принципы работы генетического кода . Вам не кажется, что они идентичны?
И еще. Образное мышление включает процесс разархивирования сжатой информации из энергоинформационного поля Нави, а образы - это ключи или принципы для извлечения информации из прошлого опыта мироздания. Этот опыт и называют хрониками акаши и энергоинформационным полем Нави.
Путь развития необходим для того, чтобы находить уникальное, неповторимое в чем-то общем. А путь свития необходим для того, чтобы в уникальных вещах находить нечто общее. А говоря другими словами, происходит самосовершенствование через познание непознанного в самом себе. А теперь подумайте, в чем суть образного "противостояния" Белобога и Чернобога.
ЭПИЛОГ
Давайте рассмотрим один пример обратной связи образного мышления и математики. Мы упоминали при описании Буквицы, что одна грань образа буквицы I (Ижеи) тождественна силе тока. По сути вектор силы. Кроме этого мы знаем, что I=U/R , где, U - напряжение, вектор устремления электронов, сила за единицу пространства, R - сопротивление или инерция, равная массе за единицу времени, I - сила тока, количество электронов за единицу времени.
Какую буквицу можно соотнести с устремлением и приближением к цели? Буквицу Укъ , пределом которой является буквица Оукъ . Теперь вспоминаем - чтобы включить поток, что нужно остановить, что этому сопротивляется? Правильно - мысль, мыслительный процесс нашего мозга. Получаем буквицу Мыслетѣ . К чему мы пришли? I=У/М . А если подставить числовые значения буквиц, мы получим: 10=400/40 . Совпадение? Хорошо, давайте найдем мощность - Р=U·I или У·I= ҂ Д (4000) - усиление потока волей порождает действие высшего порядка. А сам поток можно получить усилив бытие (Есть ) знанием (Вѣди ) - I=В·Е .
Конечно, логик скажет: I=М/Д, I=С/К, I=Ф/N и т. д. и т. п. Давайте вспомним, что означает деление по х"арийской арифметике: соотношение сфер влияния или отношение того, что вверху к тому, что внизу. И в данном случае это отношение порождает поток. Тогда М/Д - соотношение мыслей и дел порождает поток божественного света. С/К - соотношение озвученной мысли и соединения (наполнения) нескольких систем (объем) опять порождает вектор силы. Ф/N - соотношение значимости сути и воплошенного образа. Все результаты этих арифметических действий порождают различные виды движения.
Если вы по-прежнему сомневаетесь, можно пойти еще дальше, утверждая, что имея дело с электрическим током, мы, по сути, имеем дело с механическими аспектами электричества и магнетизма , и феномен тока можно описать теми же математическими уравнениями, которые применяются к обычному движению в пространстве. Т е прийти к уравнению v=s/t , где v - скорость, s - пространство, t - время. Закон подобия в действии.
Здесь уже уместно привести высказывание известного альтернативного физика Брюса ДеПальма:
“Время, как проявление более глубокой и базовой силы – вот что нас заботит. Точка соприкосновения – инерция объектов связана с энергией времени, текущей через них”
.
Вспомнив квантовую теорию и приравняв пространство и время к единице, мы можем прийти к единице скорости считывания потока озарения в материальном мире. Как вы думаете, чему она равна? Сознание - это поток, поток - это электрический ток, электрический ток - это скорость нервных импульсов, нервные импульсы - это основа работы мозга. Что в их основе? Свет! Следовательно, естественная единица скорости в Явном или материальном мире равна скорости света, т е 2,9989 x 10 10 см/сек. Округлив, мы получим 3 (Глаголи ) - движение, истечение, направление, передача знания от истока. Хотя и без округления - достаточно интересное число. А через частоту света мы выходим на физические величины единиц пространства и времени.
Величина тока измеряется количеством электронов (единиц пространства) за единицу времени. Единица пространства за единицу времени – это определение скорости, поэтому электрический ток – это скорость, т е движение. С математической точки зрения не важно, движется ли масса в пространстве или в массе движется пространство. Осталось только понять какой вид движения находится в основе. Подумайте над этим в терминах и образах свития и развития Вселенной.
Понять все это чисто логически - бесполезная трата времени. Это можно только прочувствовать. Вот в этом и заключена вся суть образного мышления.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЕ ПОЗНАНИЕ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА
Б. М. НЕМЕНСКИЙ
О роли искусства в развитии общества и в жизни отдельного человека шло и идет много споров, теоретиками выдвигаются самые разные концепции. И все что было бы не плохо, если бы из года в год уровень массовой художественной культуры в СССР не падал и не упал наконец так низко, как, пожалуй, ни в одной цивилизованной стране.
Наверное, мы единственное государство, где искусство, музыка фактически изжиты из общего образования. Даже наступающая гуманитаризация предусматривает без изменения «остаточную» роль искусств. Не пора ли специалистам перестать спорить о деталях роли искусства, о важности той или иной его стороны, не пора ли вместе добиваться изменения этой роли в образовании новых поколений? Правда, и для этого нужно понять друг друга в определении того, почему же недопустимо для культуры народа изгонять искусство из образования.
К сожалению, в образовании давно и безраздельно господствует принцип научности. Всюду, во всех педагогических документах, говорится лишь об овладении научным методом познания, усвоении научных знаний и умений, формировании научного мировоззрения. И так во всех документах - от самых традиционных до самых новаторских. Более того, даже в анализе искусства не только в средней школе, но и в высшей утвердился сугубо научный подход. Научность - фетиш.
Беда в том, что укоренилось неверное, искаженное представление об отсутствии серьезной связи художественного развития, во-первых, с нравственностью человека и общества, а во-вторых, с самим развитием человеческого мышления. Здесь и стоит искать ответы для путей консолидации действий мыслящей части общества.
Пора осознать, что человеческое мышление изначально двусторонне: его составляют рационально-логическая и эмоционально-образная сторона как равноправные части. В основе научной и в основе художественной деятельности человека лежат разные формы мышления, вызвавшие их развитие, совершенно неидентичные объекты познания и проистекающее отсюда требование принципиально разных форм передачи опыта. Эти естественно вытекающие из формулы «искусство - не наука» позиции могут вызвать сомнения, неприятия. И в основе их будет лежать совершенно не научное, а тривиально-бытовое отношение к искусствам; понимание их роли лишь как сферы отдыха, творческого развлечения, эстетического наслаждения, а не особой, равной научной, не заменимой ничем иным сферы познания.
И именно отсюда остаточный принцип для культуры в государственном
финансировании и задворки для искусства в системе образования. Не исправив эту кособокость нашего собственного понимания, мы не сможем изменить к лучшему сегодня страшноватые и совершенно неестественные для России тенденции в нашей культуре.
Таблица
|
Формы мышления |
Сфера деятельности и итог работы |
Предмет познания (что познается) |
Пути освоения опыта (как познается) |
Итоги освоения опыта |
|
Рационально-логическая |
Научная деятельность. Итог - понятие |
Реальный объект (предмет) |
Изучение содержания |
Знания. Понимание закономерностей природных и общественных процессов |
|
Эмоционально-образная |
Художественная деятельность. Итог - художественный образ |
Отношение к объекту (предмету) |
Переживание содержания (проживание) |
Эмоционально-ценностные критерии жизнедеятельности, выражающиеся в стимулах поступков, желания и стремления |
В чем же разность этих путей познания - и разность коренная? Бытует представление, что эмоционально-образное мышление, исторически действительно расцветшее раньше, является более примитивным, чем рациональное, чем-то не вполне человеческим, полуживотным. На таком заблуждении зиждется сегодня отвержение этого пути познания как недостаточно развитого и «недостаточно научного» и забывается, что оно развивалось, совершенствовалось так же с возникновения человечества!
Нет человеческого мышления, состоящего лишь из рационально-логического, теоретического сознания. Такое мышление выдумано. В мышлении принимает участие целостный человек - со всеми его «нерациональными» чувствами, ощущениями и т. д. И, развивая мышление, нужно формировать его целостно. Фактически в развитии человечества сложились две важнейшие системы познания мира. Мы мыслим в их постоянном взаимодействии, хотим того или нет. Так сложилось исторически. Компьютерному «мозгу» это не только не нужно, но и недостижимо. Для него нет человеческого личного опыта переживания жизни, нет любви и ненависти, нежности и грусти.
Попробуем сопоставить эти две стороны мышления в следующей схеме (имея в виду, что любая схема примитивизирует реальные явления жизни) (см. табл.). И на время забыв, что существуют более привычные членения форм мышления.
Из таблицы видно, что все в этих двух рядах разное - и предмет познания, и пути и итоги его освоения. Конечно, сферы деятельности здесь указаны те, где эти формы проявляются лишь наиболее ярко. Во всех сферах трудовой деятельности они «работают» вместе, в том числе в научной, производственной и художественной.
Научная деятельность (и познание) развивает сферу теоретического мышления активнее, чем любая иная.
Но художественная деятельность также приоритетно развивает свою сферу мышления. Научная скорее способна эксплуатировать ее и использовать в помощь себе.
Изучая какое-либо растение: его цветы, плоды или листья, русский ученый или мексиканский интересуется совершенно объективными данными: его родом и видом, формой, весом, химическим составом, системой развития - тем, что не зависит от наблюдателя. Чем точнее, независимее от изучающего будут данные и выводы наблюдения, тем они ценнее, тем научнее. А наблюдение художественное и его итоги принципиально иные. Они вообще не могут и не должны быть
объективными. Они обязательно личностные, мои. Результат составляет мое личностное отношение к этому растению, цветку, листку - вызывают ли они у меня наслаждение, нежность, грусть, горечь, удивление. Конечно, через меня на этот объект смотрит и все человечество, но и мой народ, моя история. Они строят пути моего восприятия. Березовую веточку я восприму иначе, чем мексиканец. Вне меня нет художественного восприятия, оно не может состояться. Эмоции не могут быть внеличностными.
Именно поэтому нельзя передать новым поколениям опыт эмоционально-образного мышления путем теоретического познания (как доселе мы настойчиво пытались). Этот опыт бесполезно лишь изучать. При таком «изучении», например, нравственные чувства, такие, как чувства нежности, ненависти, любви, превращаются в правила морали, в общественные законы, не имеющие отношения к чувствам, Будем искренни: все нравственные законы общества, если они не пережиты личностью, не содержатся в чувствах, а только в знаниях, не просто не прочны, но часто являются объектом антинравственных манипуляций.
Л. Н. Толстой верно говорил, что искусство никого не убеждает, оно просто заражает идеями. И «зараженный» уже не может жить иначе. Осознание сопричастности, уподобления, сопереживания - это сила именно человеческого мышления. Глобальная технократизация гибельна. Психолог В.П. Зинченко об этом очень верно написал: «Для технократического мышления не существует категорий нравственности, совести, человеческого переживания и достоинства». Резко сказано? Но точно. И здесь не нужно распространяемой сентиментальной полуправды. В. П. Зинченко уточняет почему: технократическое мышление - это всегда примат средств над смыслом. Ибо смысл человеческой жизни - именно человеческое совершенствование взаимоотношений человека с миром, гармонизация этих отношений. При целостности двух путей познания научное дает средства к гармонизации, художественное же включает введение этих средств в систему действий и определяет формирование желаний человека как стимулов к действию. При искажении эмоционально-ценностных критериев знания направляются на античеловеческие цели.
При угнетенности, недоразвитости эмоционально-образной сферы и происходит сегодняшний перекос в нашем обществе - примат средств, спутанность целей. А это опасно, так как, хотим или не хотим, понимаем или не понимаем, именно чувства наши определяют «первые движения души», определяют желания. А желания даже наперекор убеждениям формируют действия. Логика же уже «постфактум» пытается теоретически оправдать наши действия. Попытайтесь с этих позиций проанализировать хотя бы свои поступки.
Два пути познания возникли именно потому, что существуют два объекта, или предмета, познания. И объектом (предметом) познания для эмоционально-образной сферы мышления является не сама реальность жизни, а наше человеческое эмоционально-личностное к ней отношение. В этом случае (научная форма) познается объект, в другом (художественная) познается ниточка эмоционально-ценностной связи между объектом и субъектом - отношение субъекта к объекту (предмету). И здесь - корень всей проблемы.
А дальше ниточка понимания деятельности эмоционально-образной сферы мышления тянется к тем видам труда, где эта форма наиболее проявляется, к искусствам. Искусства полифункциональны, но главная их роль в жизни общества именно эта - анализ, формулирование, закрепление в образной форме и передача следующим поколениям опыта эмоционально-ценностных отношений к тем или иным явлениям связей людей между собой и с природой. Естественно, как и в научной фopмe, здесь происходит борьба идей, тенденций в отношении к
явлениям жизни. Не только полезные, но и вредные обществу идеи живут и противоборствуют. И общество интуитивно отбирает и закрепляет из них то, что нужно ему сегодня для расцвета или для упадка.
Не пора ли искать пути гармонического развития, но не у взрослых поколений, что поздно, а у поколения, вступающего в жизнь? Нужно только осознать, что мы предлагаем не один флюс развития вместо другого. Необходимо добиться именно гармонии в развитии мышления. Но для этого нужно принять как объективную данность двусторонность нашего мышления: наличие рационально-логического и эмоционально-образного мышления, наличие соответствующих им разных кругов познания - реального объекта и отношения субъекта к объекту. А если принять эти две стороны, то легко принять и два пути освоения опыта - изучение содержания опыта и проживания, переживание содержания. Здесь, именно здесь заложена основа художественной дидактики - иного не дано.
Но, поняв, что искусства вносят в жизнь человека и общества нечто незаменимое по сравнению с научным познанием, стоит задуматься о том, может ли одна литература взвалить на свои плечи развитие, даваемое всеми искусствами.
Я не говорю уже о том, что никоим образом литература не может формировать систему «глаз - мозг - рука», развивать различительные способности зрения на уровне, требуемом сегодняшним производством (240 оттенков цвета - минимум для Японии). Я уж не говорю, что она явно не способна развивать человеческий слух равноценно с музыкой. Но есть нечто и в духовной культуре, что не подвластно литературе. Очевидно, если бы была возможность такой замены, то иные искусства в развитии человечества постепенно вымерли бы или вообще не развились.
Я не буду здесь касаться музыки, театра и кино. Коснусь лишь духовных функций близкой мне сферы пластических искусств. Я возьму здесь элементы пластически-художественного мышления, отделив их от музыкально-художественных и литературно-художественных.
В процессе разработки принципов, методов и содержания программы «Изобразительное искусство и художественный труд» нам удалось относительно четко проследить специфику внутренних связей пластических искусств с жизнью общества. Прослеживая их в детской игровой деятельности, мы выделяем три их формы как сферы пластической художественной деятельности: постройку, изображение и украшение. Эти занятия, так увлекающие детей в играх, можно рассматривать как первичную клеточку художественной деятельности, первооснову, знакомую и первобытным народам, и современному обществу. Деятельности эти есть проявление трех известных сфер пластически-художественного мышления: конструктивного, изобразительного, декоративного. Зародившись с возникновением человеческого общества, проявляясь в трудовой и игровой деятельности, элементы пластически-художественного мышления в дальнейшем сформировали всю многослойную систему изобразительно-пластических искусств (архитектура, дизайн, станковые, монументальные, декоративно-прикладные искусства); образовали их, вступая в самые сложные переплетения. При этом мы можем говорить об основах конструктивности, изобразительности и декоративности в этих искусствах: проявления их наглядны, они не только характеризуют виды искусства, помогая дифференцировать их, но и определенным образом «окрашивают» разные периоды развития искусства.
Мы можем проследить биение этих «трех сердец» искусства на протяжении всего его развития, почувствовать регулярность и некоторые закономерности спадов и взлетов их активности. Само зарождение искусства связано с развитием этих тенденций в человеческом обществе.
Естественно поставить вопрос: что
именно своего, неповторимого вносят в жизнь не только пластические искусства в целом, но и каждая область пластически-художественного мышления? Отсутствие четкой постановки этого вопроса и ясного ответа на него и порождает ремесленно-эстетское и снобистское понимание искусства как очень приятного (но не обязательного) приложения к жизни.
При строгом анализе можно увидеть, что все три формы имеют свой образный язык - разный, хотя и строящийся на единых элементах: цвете, линии, форме, пропорции, и по-своему участвуют в формировании среды человеческого бытия и общения, в становлении её духовно-эмоционального стержня - нравственно-эстетических идеалов, характера, формы, методов и направленности отношения людей к тем или иным явлениям жизни. В художественной деятельности они формируются и передаются новым поколениям. Без этой работы, без организации общения на основе определенных нравственно-эстетических идеалов не могла бы развиваться духовная жизнь общества. Без организации эмоциональной жизни, без организации коллективного эмоционального «реагирования» в среде человеческого общения немыслимо существование и развитие человеческого общества.
Итак, что же мы можем выяснить, попытавшись разобраться в этих искусствах? Чем здесь нам могут помочь три деятельности, которые мы выделили как проявление основных форм? При внимательном анализе можно нащупать разную роль трех форм пластически-художественного мышления в поведении и общении людей.
Постройка, изображение, украшение.
Украшение. Декор. Дикарь победил пещерного медведя или тигра... Он вешает на грудь его зуб. Украшение? Конечно, но зуб украшает его не красотой своих форм, а напоминанием об его подвиге. Это знак отличия, утверждающий его место в своем обществе. Если это первый подвиг - он сразу ставит юношу на новую ступень, и зуб в ожерелье является символом подвига, знаком, сообщающим об этом.
Если племя выходило на дорогу войны, воины расписывали себя особыми красками, как бы обозначая переход к другим отношениям и законам существования, отдаляя себя от мирного времени, от женщин, детей, стариков. Раскраска - здесь также знак положения, роли людей, их общности в решении предстоящей задачи. А ведь были и родовые, и кастовые раскраски, и татуировки, и даже возрастные. Перо, воткнутое в волосы, тоже обозначало место в родовой иерархии.
Не менее значима роль декора и в более поздние времена. Тога была довольно непрактичным видом одежды, но ношение ее имело определенный общественный и политический характер. Правом носить наряд обладали только свободно рожденные римские граждане. Специальные указы о костюме в Европе издавались уже в XIII в. В большинстве из них определялись строгие правила, какому сословию какие костюмы можно носить. Например, в Кельне в XV в. судьи и врачи должны были ходить в красном, адвокаты - в фиолетовом, прочие ученые мужи - в черном. На протяжении долгого времени в Европе только свободный человек мог носить шляпу. В России при Елизавете люди без чина не имели права носить шелк, бархат. В средневековой Германии крепостным под страхом смертной казни запрещалось носить сапоги: это была исключительная привилегия дворян. А в Судане существует обычай продевать латунную проволоку сквозь нижнюю губу. Это означает, что особа состоит в браке. Об этом же говорит и ее прическа. И сегодня, выбирая для себя тот или иной тип одежды или ее покрой, человек, относящий себя к определенной социальной группе, использует их как социальные символы, которые выполняют функции регулятора отношений между людьми. Дело украшения себя, оружия, одежды, жилища было не развлекательным мероприятием со времен формирования человеческого общества. Через украшение человек выделял себя из среды людей, обозначая свое место в ней (герой, вождь, аристократ, невеста и т, д.) и приобщая себя к определенной
общности людей (воин, член племени, член касты или бизнесмен, хиппи и т. д.). Несмотря на более многоплановое обыгрывание декора, корневая роль его и сегодня остается той же - знака приобщения и вычленения; знака сообщения, утверждающего место данного человека, данной группы людей в среде человеческих отношений,- именно здесь основа существования украшения как явления эстетического.
То, что массы наших людей неграмотны в этой области, приводит ко многим социальным сбоям и личным нравственным срывам. Верно отмечают специалисты, что общество до сих пор не выработало планомерной системы обучения языку декоративного искусства. Каждый проходит школу языка такого общения совершенно самостоятельно и стихийно.
Конструктивная линия художественно-пластического мышления выполняет иную социальную функцию и отвечает на иную потребность.
Можно проследить роль этой линии мышления на том искусстве, где она выявляется более четко и выступает открыто как ведущая. Строительство любых объектов и имеет прямое отношение к человеческому общению, но иное, чем декор. Архитектура наиболее полно (как и дизайн) выражает эту линию художественного мышления. Она возводит дома, села и города с их улицами, парками, заводами, театрами, клубами - и не только для удобства быта. Египетский храм своей конструкцией выражал определенные человеческие отношения. Готический храм, да и сам средневековый город, его конструкция, характер домов совершенно иные. Крепость, замок феодала и дворянская усадьба XIII в. были ответом на разные социальные, экономические отношения, по-разному формировали среду общения людей. Недаром архитектуру называют каменной летописью человечества, по ней мы можем изучать смену характера человеческих отношений.
Влияние форм архитектуры на нашу жизнь нетрудно ощутить и сегодня. Например, как много изменило в развитии детских игр уничтожение московских двориков. До сих пор не находятся органичные формы самоорганизации детской среды в этих огромных нерасчлененных постройках. Да и отношения взрослых, соседей строятся по-иному, вернее, почти не строятся. Кстати, тут есть над чем задуматься. Насколько наша бытовая архитектура верно выражает желаемый нами тип человеческих отношений? Нам необходима среда для общения, для создания прочных человеческих связей. Сейчас соседи даже на одном этаже могут совершенно не знать друг друга, не иметь никаких отношений. И архитектура всячески способствует этому, в ней нет среды для общения. Даже на гуманитарных факультетах МГУ людям негде посидеть и побеседовать. Есть лишь лекционные залы и залы для массовых собраний. Не запланировано среды, где можно общаться отдельному человеку с отдельным человеком, спорить, беседовать, размышлять. Хотя, может быть, в предыдущие периоды истории нашего общества это было и не нужно. А вне архитектуры и наперекор ей создавать условия для общения чрезвычайно трудно, Так, помимо узкоутилитарной функции (защиты от холода, дождя и обеспечения условий для работы) архитектура выполняет значительную социальную, «духовно-утилитарную» роль в формировании человеческих отношений. Она выполняет функцию конструктивного элемента художественного мышления: формирует реальную среду, определяющую характер, образ жизни и взаимоотношения в обществе. Этим она как бы задает параметры и ставит вехи определенного эстетико-нравственного идеала, создает для него среду развития. Становление эстетического идеала начинается с конструирования его основ и принципиальных свойств. Конструктивная сфера выполняет свое предназначение через все искусства.
Изобразительная основа пластически-художественного мышления проявляется во всех искусствах, но ведущей линией она становится в искусствах собственно изобразительных и даже острее всего в станковых - в
живописи, графике, скульптуре. Ради каких же потребностей общества развивались эти формы мышления? Возможности этих форм, на наш взгляд, самые тонкие и многосложные. Они во многом исследовательские и в чем-то похожи на научную деятельность. Здесь происходит анализ всех сторон реальной жизни. Но анализ эмоционально-образный, и не объективных законов природы и общества, а характера личностных, эмоциональных отношений человека со всей окружающей его средой - природой и обществом. Эмоциональных? Сугубо личностных? Да, именно через личность каждого из нас только и может проявляться наше человеческое - общее. Общество без личностей - стадо! Итак, если в науке вывод: «знаю, понимаю», то здесь: «люблю, ненавижу», «этим наслаждаюсь, это вызывает отвращение». Это и есть эмоционально-ценностные критерии человека.
Эта форма мышления, собственно, и рождена потребностью в формировании (в единстве чувства и мысли) развернутого нравственного эстетического идеала общества, определенного образа жизни. Она вырабатывает характеротношения,эмоционального реагирования на природу и людей, такую любовь и нелюбовь, такое ощущение добра и зла, какие способствуют жизнедеятельности данной общности, прочности ее внутренних связей, способности развиваться в определенном направлении. Добро, польза - как красота, гармония. Вред - как безобразность, дисгармония. Трагические, комические, лирические и другие формы - как мастерская и инструментарий этого анализа, как путь выработки и утверждения идеала отношений средствами образа в сознании людей.
Изобразительная форма мышления расширяет возможности образных систем, наполняя их живой кровью реальной действительности. Здесь происходит мышление реальными зримыми образами (а не просто изображение реальности). Именно мышление реальными образами дает возможность проанализировать все сложнейшие, тончайшие стороны действительности, осознать их, построить к ним отношение, вариативно и чувственно (часто интуитивно) сопоставить с ним свои нравственно-эстетические идеалы и закрепить это отношение в художественных образах. Закрепить и передать другим людям.
Именно в силу этого изобразительное искусство является мощной и тончайшей школой эмоциональной культуры и ее летописью. Именно эта сторона художественного мышления дает возможность изобразительному искусству поднимать и решать самые сложные духовные проблемы общества.
Три элемента пластически-художественного мышления, как бы три сердца, три мотора художественного процесса, участвуют в формировании характера человеческого общества, по-своему влияют на его формы, методы, развитие.
Изменение задач искусства на разных этапах формирования нравственно-эстетического идеала каждого времени проявляется в пульсации этих трех тенденций. Подъем и спад каждой из них являются ответом на изменения требований общества к искусству как инструменту, помогающему ему не только сформировать нравственно-эстетический идеал времени, но и утвердить его в повседневной жизни. От практики через ее духовное, эмоциональное, нравственно-эстетическое освоение опять к повседневной практике жизни - вот путь реализации этих основ. И каждая основа (сфера) имеет свою, неповторимую и незаменимую функцию, порожденную спецификой, характером именно ее возможностей.
Три основы пластически-художественного мышления, таким образом, могут помочь раскрыть юношеству искусство не просто как одну из профессий, обслуживающую красотою и удовольствиями наши минуты отдыха, а как одну из корневых проблем существования общества. Искусство предстает в подлинном своем значении как одна из важнейших форм самосознания и самоорганизации человеческого коллектива, как проявление
выработанной за миллионы лет человеческого существования, ничем не заменимой формы мышления, без которой человеческое общество вообще не могло бы состояться.
К сожалению, эта роль искусства в развитии общества и в жизни каждого человека в нашей школе сегодня абсолютно не понимается; наша школьная система не включает передачу опыта эстетических переживаний молодым поколениям. Тем самым мы сознательно или неосознанно прерываем и рушим передачу духовного, эмоционально-ценностного опыта предков.
Мы рассмотрели роль искусства в жизни общества и каждого человека, остановились на специфике одной из форм проявления эмоционально-образного мышления - пластически-художественной сферы деятельности. Это не только теоретическая проблема. Существующее нежелание видеть реальность этих форм мышления выливается в формирование одностороннего интеллекта. Произошла всемирная фетишизациярационально-логического пути познания.
Профессор Массачусетского технологического института Дж. Вейценбаум пишет об этой опасности: «С точки зрения здравого смысла наука превратилась в единственно законную форму познания... приписывание здравым смыслом несомненности научному знанию, приписывание, ставшее сейчас догмой здравомыслия вследствие его почти повсеместного практикования, фактически лишило законной силы все другие формы познания» .
Такие мысли высказывались и нашими учеными. Достаточно вспомнить философа Э. Ильенкова. Но к ним общество абсолютно не прислушивается. Флюсовость развития человека как мыслящей личности, а ведь именно такое развитие реализуется в нашей массовой школе, превратилась в одностороннее развитие всей нашей культуры, в потерю людьми и самим обществом творческого потенциала, культуры труда, культуры семьи, культуры человеческих отношений.
Каждый труд перестал быть творческой радостью, стал лишь путем для добывания денег - и тем обессмыслился. Результаты трудов наших - поля, на которых половина урожая погибает; строительство домов - сикось-накось, тяп-ляп; общественные и научные формы, где мы исходим в словоблудии, не слушая и не слыша друг друга.
Потеряны, не развиты и не переданы от предков традиции эмоционально-ценностной культуры. А это именно они составляют культуру отношения к миру, лежащую в основе всей человеческой жизнедеятельности, основе человеческого поступка.
Не пора ли увидеть эту скособоченность нашей культуры и образования и мощно «поднять глас» - поставить этот вопрос перед всеми государственными инстанциями? Сегодня нельзя уходить в «научную скорлупу» или ее «горные выси».
Поступила в редакцию 30.Х I 1990 г.
При показе квартиры потенциальному покупателю можно убеждать купить ее, руководствуясь тем, что она самая лучшая по соотношению качество/цена и что площадь в ней на 3 м? больше, чем во всех других однотипных квартирах, и т. п., а можно и приводить эмоциональные доводы на эти же темы:
- “Вы можете искать более лучшую квартиру, и найдете ее. Можете искать более дешевую квартиру, и найдете ее еще быстрее. Но если Вы захотите найти такую же хорошую квартиру по такой цене, мой опыт подсказывает, что придется расстаться со многими нервными клетками и запастись большим количеством бензина для таких поисков. Если хотите, сохраните вот этот телефон. После того как ничего не найдете, позвоните нам и просто скажите, что свободное время дешевым не бывает…”
- “Посмотрите, вот стоит кровать. Площадь у нее 3 м?.. Так вот в других однотипных квартирах площади меньше ровно на 365 Ваших снов в год!”
- “Вы когда-нибудь плакали? Я не знаю, как Вы, а когда нам придется съезжать с этой замечательной квартиры да еще в таком роскошном месте, то, расставаясь с ней, мы не один носовой платок слезами замочим!..”
Многие люди развивают в себе такое мышление, что любые логические доводы у них автоматически трансформируются в эмоциональное внушение. Пример – монологи Жванецкого или одесский разговорный язык. Идеи, “одетые” в эмоциональные одежды, очень сильно затрудняют их логический анализ и надежно “застревают” в подсознании.
Вопросная суггестия.
Она основана на том, что каждый ответ человека на вопрос суггестора подготавливает почву для следующего вопроса. Суггестор задает объекту вопросы и, получая ответы на них, подводит дальнейшими вопросами к заранее запланированной мысли, косвенно связанной с темой разговора и содержанием суггестии, т.е. суггестор вопросами “подбрасывает идею” человеку. Общение с помощью вопросов во много раз эффективнее, чем попытки заставить людей думать так же, как Вы. С помощью умелых вопросов Сократ добивался того, что было не под силу многим за всю историю человечества: он радикально менял мышление людей.
РИТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ – вопросы, не требующие ответа. Их цель – служить более глубокому анализу проблемы, вызывать новые вопросы, указывать на нерешенные проблемы или обеспечивать поддержку Вашей точки зрения со стороны участников беседы путем их молчаливого одобрения.
ВОПРОСЫ СКРЫТЫЕ КОМАНДЫ –вопросы, требующие не столько ответа, сколько определенного действия, например: “Не мог бы ты сделать <…>?”
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ – это вопросы, на которые можно дать лишь ответ “да” или “нет”.
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ – на вопросы этой многочисленной группы невозможно ответить “да” или “нет”; они требуют какого-то разъяснения, развернутого ответа.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ – мастерски поставленный вопрос является неплохим стартом. У слушателя появляется интерес и состояние положительного ожидания. Например: “Если я предложу Вам решение Вашего вопроса, Вы можете найти для меня несколько минут?” Даже если на такой вопрос односложно ответить “да”, все равно создается плацдарм для дальнейшей беседы.
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВОПРОСЫ – их задают с целью найти взаимопонимание, например: “Вы, наверное, тоже рады тому, что…?”; “Если я не ошибаюсь, Вы считаете, что…?”
ВОПРОСЫ-СВЯЗКИ – существуют четыре вида связок: стандартные, обратные, внутренние и связки-рефрены. Сочетая их в разумных пропорциях, Вы сможете совершенно незаметно применять эту высокопроизводительную методику.
СТАНДАРТНЫЕ СВЯЗКИ – связка прикрепляется к концу предложения, например:
- “В наши дни нужно быть особенно бережливым, верно?”
- “Безопасность заботит всех, не так ли?”
- “Забавные обои, правда?”
Когда собеседник согласится, что суть вопроса соответствует его потребностям, то приблизится к окончательному решению. Вот некоторые, особенно полезные в разговоре, связки:
«Верно? Правда? Вы согласны? Согласитесь? Так? Так или иначе? Согласны Вы с этим? Правильно? Действительно? Не так ли? Не правда ли? Вам не кажется? Вы не находите? В самом деле?»
Располагая их с умом в окончаниях фраз, Вы получите множество положительных ответов.
ОБРАТНЫЕ СВЯЗКИ – это те же самые связки, только размещенные в начале предложения. Их можно чередовать со стандартными – для разнообразия и большей теплоты в общении. Не думайте, что это слишком просто: мы говорим о привычках речи, помогающих в очень тонкой и сложной области общения.
Для того чтобы приучить себя к автоматизму использования этих эффективных в работе связок, требуется постоянная тренировка.
ВНУТРЕННИЕ СВЯЗКИ – это использование частиц “разве” или “не” в середине сложно-подчиненного предложения:
- “Теперь, когда мы устранили эту проблему, разве Вам не приятно ощутить, что…”
- “Когда Ваша жена увидит эту кухню, не будет ли это для нее приятным сюрпризом?”
СВЯЗКИ – РЕФРЕНЫ – этот вид связок применяется по-разному. В простейшем случае Вы “приклеиваете” связку к любому утверждению собеседника, оказывающего положительное влияние на Ваши цели.
Собеседник: “Да, мощность двигателя солидная”.
Вы: “Да, не правда ли?”
Партнер произнес это, значит, для него это правда. Используя связки-рефрены, Вы каждый раз превращаете высказывания собеседника о полезных качествах чего-либо в дополнительное согласие.
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ – вид открытых вопросов, знакомящих нас с мнением собеседника, например: “Каковы Ваши цели относительно…?”
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ – вид открытых конкретных вопросов с целью сбора дополнительной информации. Могут быть как прямыми, так и наводящими.
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ – состоят в повторении с вопросительной интонацией части утверждения, только что произнесенного собеседником, чтобы заставить его увидеть свое утверждение с другой точки зрения.
ПЕРЕЛОМНЫЕ ВОПРОСЫ – они удерживают беседу в строго установленном направлении или же поднимают целый комплекс новых проблем. Подобные вопросы задаются в тех случаях, когда получено достаточно информации по одной проблеме и нужно переключиться на другую или когда нужно “пробиться” через сопротивление собеседника, например: “А как Вы представляете себе…?”; “Как на самом деле у Вас обстоят дела с…?”; “Как Вы считаете, надо ли изменять технологию…?”
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБДУМЫВАНИЯ – этот тип вопросов понуждает собеседника размышлять, продумывать и комментировать то, что было сказано, например: “Правильно ли я понял Ваше сообщение о том, что…?”; “Вы полагаете, что…?”
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ – задаются во время разговора с целью выяснить, прислушивается ли еще к Вам собеседник, понимает ли он Вас или просто поддакивает, например: “Что Вы об этом думаете?”; “Вы считаете так же?”; “Разве не о серьезном деле идет речь?”
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОРИЕНТАЦИИ – их цель – определить, придерживается ли собеседник высказанного ранее мнения или намерения, например: “Есть ли у Вас еще вопросы?”; “Какова Ваша точка зрения?”; “Ясно, какую цель мы преследуем?”
ВСТРЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ (их еще называют “вопросы- дикобразы” или “вопросы-ежики”) – вопросы подобного рода призваны вести к постепенному сужению разговора, подводят собеседника все ближе к тому моменту, когда он скажет окончательное “да”. Этот метод заключается в умении ответить на вопрос собеседника своим вопросом, утверждающим Ваш контроль над беседой и позволяющим перейти к следующему этапу Вашей цели в этом разговоре. Например, покупатель задает вопрос: “Вы сможете оформить покупку мною оборудования к 19 мая?” Ответив интуитивно: “Конечно, без проблем!”, Вы можете остаться ни с чем – у покупателя остается в запасе вариант “подумать”. Но можно дать ответ на такой вопрос и в форме встречного вопроса, приподнимающего разговор на новый уровень:
Продавец: “Если я гарантирую Вам оформление покупки к 19 мая, то Вы сможете сегодня же перечислить аванс?”
Важно задавать вопросы-”ежики” в атмосфере доброжелательного ненавязчивого интереса. Ценность этого метода сводится к нулю при злоупотреблении, например, если Вы задаете ответные вопросы вызывающим тоном. Но при благоразумном использовании “ежики” просто бесценны.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ - предоставляют собеседнику свободу выбора (или кажущуюся свободу выбора). Число возможных вариантов не должно превышать трех. Основным компонентом вопроса является союз “или”, например: “Какой день недели Вы предпочитаете для встречи: понедельник или вторник?”
ОДНОПОЛЮСОВЫЕ ВОПРОСЫ – повторение Вами вопроса собеседника в знак того, что Вы поняли, о чем идет речь. Вы повторяете вопрос и лишь затем даете ответ. Результат – появляющееся у собеседника впечатление, что его вопрос правильно понят, и выигрыш времени для обдумывания.
ПРОВАКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ. Провоцировать – значит подстрекать, бросать вызов. Эти вопросы служат лучшему и, главное, быстрому пониманию целей партнера и установлению обратной связи: верно ли он понимает положение дел, например: “Вы действительно считаете, что Ваш товар конкурентоспособен, по сравнению с другими предложениями рынка?”
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. Их цель – поставить точку в разговоре, например: “Хорошо, договорились. Когда Вы к нам подъедете?” Заключительный вопрос может выглядеть и как альтернатива: “Когда Вас больше устроит к нам подъехать: 14 или 15 января?”